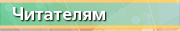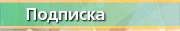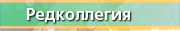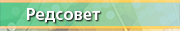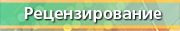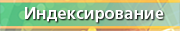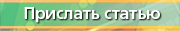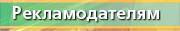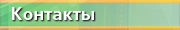Марочко Т.Ю., Леванова Л.А., Додонов М.В., Артымук Д.А.
Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово, Россия
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТЫ И МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Цель
исследования
– оценить морфологические особенности строения плаценты и состояния микрофлоры
влагалища и плаценты у женщин с преждевременными родами.
Материалы
и методы.
Дизайн исследования: ретроспективное, случай-контроль. В исследование включены
150 женщин. I группу
составили 50 женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути
преждевременно, во II группу
вошли 100 женщин, родоразрешенных своевременно.
Результаты
исследования.
Полученные данные показали у пациенток с преждевременными родами (ПР) реализацию
восходящего инфицирования последа с преобладанием хориодецидуита (40 %) и
интервиллузита (32 %), а также более высокой частотой плацентарной
недостаточности (54 %). У этих женщин в ранние сроки беременности
регистрировалась более высокая частота нарушений биоценоза влагалища.
Взаимосвязь между биоценозом влагалища в ранние сроки беременности, частотой
инфицирования поверхности плаценты и реализацией инфицирования последа не
установлена. У пациенток с ПР в ранние сроки беременности статистически значимо
чаще из влагалища выделялись такие микроорганизмы, как Staphylococcus haemolyticus
–
30,6 %, Staphylococcus epidermidis – 30,6 %, Corynbacterium spp. – 19,4 %, Enterococcus faecalis, E. coli. Не обнаружено
статистически значимых различий между частотой выделения различных
микроорганизмов с поверхности плаценты у женщин с преждевременными и срочными
родами.
Заключение. Пациентки с ПР
характеризовались более высокой частотой реализации восходящего инфицирования последа
и частотой нарушений биоценоза влагалища.
Ключевые слова: преждевременные роды; микробиоценоз влагалища; морфология плаценты
Marochko T.Yu., Levanova L.A., Dodonov M.V., Artymuk D.A.
Kemerovo State Medical University, Kemerovo
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE PLACENTA AND VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN WOMEN WITH PREMATURE BIRTH
Objective – to assess the morphological features of the structure of the placenta
and the state of the microflora of the vagina and placenta in women with
preterm birth.
Materials and methods. Study design: retrospective, case-control. The study included 150 women.
Group I consisted of 50 women with premature vaginal birth; Group II
consisted of 100 women with term vaginal birth.
Results. The
results of the study showed that in patients with preterm birth (PB), an
ascending infection of the placenta is realized with a predominance of
choriodeciduitis (40 %) and intervillusitis (32 %), as well as a
higher rate of placental insufficiency (54 %). In these women in the early
stages of pregnancy, a higher incidence of vaginal biocenosis was recorded. The
relationship between the vaginal biocenosis in early pregnancy, the frequency
of infection of the surface of the placenta and the realization of infection of
the placenta has not been established. In patients with PB in the early stages
of pregnancy, statistically significantly more often microorganisms were
isolated from the vagina such as Staphylococcus haemolyticus – 30.6 %,
Staphylococcus epidermidis – 30.6 %, Corynbacterium spp. – 19.4 %,
Enterococcus faecalis, E. coli. No statistically significant differences
were found between the frequency of excretion of various microorganisms from
the surface of the placenta in women with preterm and term births.
Conclusion. Patients with PB were characterized by a higher incidence of ascending
infection of the placenta and disorders of vaginal biocenosis.
Key words: premature birth; vaginal microbiocenosis; placental morphology
Корреспонденцию адресовать:
АРТЫМУК Дмитрий
Анатольевич
650056, г.
Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22а, ФГБОУ ВО КемГМУ
Минздрава России
Тел: +7-961-733-66-33. E-mail: martynych98@mail.ru
Сведения об авторах:
МАРОЧКО Татьяна
Юрьевна
кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры акушерства и
гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г.
Кемерово, Россия
E-mail: marochko.2006.68@mail.ru
ДОДОНОВ Максим
Владимирович
кандидат биологических наук, доцент кафедры патологической
анатомии и гистологии, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово, Россия
E-mail: max_dodonov@mail.ru
ЛЕВАНОВА Людмила
Александровна
доктор медицинских наук, доцент, зав. кафедрой микробиологии,
иммунологии и вирусологии, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово,
Россия
E-mail: micro@kemsma.ru
АРТЫМУК Дмитрий
Анатольевич
студент, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово, Россия
E-mail: martynych98@mail.ru
Information about authors:
MAROCHKO Tatyana Yurievna
candidate of medical sciences, docent, docent
of the department of obstetrics and gynecology named prof. G.A. Ushakova,
Kemerovo State Medical University, Kemerovo, Russia
E-mail: marochko.2006.68@mail.ru
DODONOV Maxim Vladimirovich
candidate of medical sciences, docent of
the department of pathological anatomy and histology, Kemerovo State Medical
University, Kemerovo, Russia
E-mail: max_dodonov@mail.ru
LEVANOVA Lyudmila Aleksandrovna
doctor of medical sciences, docent,
head of the department of microbiology, immunology and virology, Kemerovo State
Medical University, Kemerovo, Russia
E-mail: micro@kemsma.ru
ARTYMUK Dmitry Anatolyevich
student, Kemerovo State Medical University,
Kemerovo, Russia
E-mail: martynych98@mail.ru
Частота преждевременных родов (ПР) в настоящее
время в развитых странах составляет 5-7 %, а неонатальная смертность достигает
28 %. Ежегодно в мире рождаются 15 миллионов недоношенных детей. При
этом ПР являются комплексной медико-социальной проблемой, связанной с решением
задач по улучшению качества последующей жизни детей, родившихся недоношенными,
и сопряженными материально-экономическими затратами. Тяжесть осложнений,
связанных с недоношенностью, как правило, пропорциональна гестационному сроку
преждевременных родов.
В настоящее время перед акушерами стоят
две основные задачи: диагностика угрожающих преждевременных родов для
профилактики ненадлежащих вмешательств и подготовка плода к преждевременному
рождению с помощью адекватных и одновременно безопасных медикаментозных средств
[1].
Нерешенными до настоящего времени
остаются вопросы профилактики ПР. Так, доказанными интервенциями первичной
профилактики являются прекращение
курение, уменьшение стресса и физической нагрузки, определенное питание [2-4].
Вторичная профилактика ПР состоит в проведении скрининга путем оценки состояния
шейки матки и применение у женщин группы риска прогестерона, пессария или
серклажа [5]. Для вторичной профилактики ПР возможно применение
комбинированного подхода [6]. Третичная профилактика включает в себя
проведение токолиза, введение кортикостероидов и перевод беременной в
перинатальный центр, однако эти интервенции не снижают риск ПР, но могут
улучшить перинатальные исходы [5, 7].
Предполагается высокая значимость
нарушений микробиоценоза влагалища в ранние сроки беременности в возникновении
и реализации ПР [8-10]. И, соответственно, предполагается, что своевременная
коррекция их нарушений может предупредить ПР [9, 10]. Например, в метаанализе Kanninen T.T. (2019) показано, что
женщины с угрожающими ПР в 9 % случаев инфицированы Chlamydia trachomatis, что существенно превышает распространённость этого
заболевания в популяции [11, 12]. Тем не менее, несмотря на то, что
общепризнано, что инфекционный фактор является одним из основных в генезе ПР, значение
нарушений микробиоценоза влагалища во время беременности остается
дискуссионным.
Цель
исследования –
оценить морфологические особенности строения плаценты и состояния микрофлоры
влагалища и плаценты у женщин с преждевременными родами.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дизайн исследования: ретроспективное,
случай-контроль. В исследование включены 150 женщин. I группу составили 50 женщин,
родоразрешенных через естественные родовые пути преждевременно, во II группу вошли 100 женщин, родоразрешенных
своевременно. Критерии включения в I группу: преждевременные
роды (срок родов 22-36 недель), родоразрешение через естественные родовые
пути, информированное согласие пациентки на участие в исследовании. Критерии
исключения из I группы: срок родов более 36 недель,
родоразрешение путём операции кесарева сечения. Критерии включения во II группу: срочные роды (срок родов 37-41 неделя),
родоразрешение через естественные родовые пути, информированное согласие
пациентки на участие в исследовании. Критерии исключения из II группы: срок родов менее 37 недель,
родоразрешение путём операции кесарева сечения. Средний возраст женщин I группы составил 29 ± 5,6 лет,
средний срок родов 32,5 ± 2,8 недели (от 23 до 36 недель), во II группе, соответственно, – 30,5 ± 5,6 лет,
средний срок родов 38,8 ± 1,2 недель
(от 37 до 41 недель), p > 0,05;
p < 0,001.
Результаты морфологического исследования
плаценты, бактериологического исследования содержимого влагалища и соскоба с
поверхности плаценты получены методом выкопировки данных из историй родов.
Статистическая обработка полученных
данных проводилась с применением пакета прикладных программ «Statistica for
Windows 6.2. Для представления качественных
признаков использовали относительные показатели (доли, %). Для оценки различий
относительных величин использовали анализ таблиц сопряженности (χ2).
При частотах меньше 5 применяли двусторонний точный критерий Фишера. Для
сравнения относительных показателей, характеризующих связанные совокупности (до
и после лечения), нами использовался тест Мак-Немара. Критический уровень
значимости – р ≤ 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты морфологического исследования плаценты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты
морфологического исследования плаценты у пациенток с преждевременными и со
срочными родами (%)
Table 1. Results of a morphological study of the placenta in patients with
preterm and urgent delivery (%)
|
Морфологическая характеристика |
I группа (n = 50) |
II группа (n = 100) |
χ2 |
p |
|
Признаки незрелости |
100 |
0 |
24,176 |
< 0,001 |
|
Плацентарная недостаточность |
54 |
35 |
4,962 |
0,026 |
|
Децидуит |
18 |
7 |
4,233 |
0,04 |
|
Интервиллузит |
32 |
11 |
9,959 |
0,001 |
|
Хориодецидуит |
40 |
25 |
3,571 |
0,059 |
|
Фуникулит |
12 |
4 |
3,429 |
0,065 |
|
Гнойный мембранит |
10 |
0 |
10,345 |
0,002 |
Результаты проведенного исследования
показали, что у всех женщин I группы в
плаценте имелись признаки незрелости, что было не характерно для II группы женщин. Признаки хронической
плацентарной недостаточности имели место у 27 (54 %) пациенток I группы и у 35 (35 %) женщин II группы (χ2 = 4,962; p=0,026). У 32 (64 %)
женщин I группы и у 37 (37 %) женщин II группы имело место инфицирование последа (χ2 =
9,783; p = 0,002). Децидуит зарегистрирован у 9 (18 %)
и у 7 (7 %) женщин I и II групп, соответственно (χ2 = 4,233;
p = 0,04), интервиллузит – у 16 (32 %) и 11
(11 %) (χ2 = 9,959; p =
0,001), хориодецидуит – у 20 (40 %) и 25 (25 %) (χ2 =
3,571; p = 0,059), фунникулит – у 6 (12 %) и 4 (4 %)
женщин (χ2 = 3,429; p = 0,065).
Гнойный мембранит в I группе выявлен
у 5 (10 %) женщин и отсутствовал во II группе
(χ2 = 10,345; p = 0,002).
Преждевременные роды – это многофакторный
синдром с различными факторами риска и долгосрочными последствиями для здоровья
ребенка. Патология плаценты дает важную диагностическую информацию, чтобы
установить причину преждевременных родов [13].
Результаты ранее проведенного
исследования Feist
H. (2017) показали,
что острый хориоамнионит и омфаловаскулит коррелируют с клинической тяжестью и
прогнозом для новорожденного ребенка. Хронический децидуит, хронический
хориоамнионит, хронический гистиоцитарный интервиллузит – это морфологические
результаты исследования плаценты, которые очень часто регистрируются при ПР [14].
В нашем исследовании также зарегистрирована статистически значимо более высокая
частота децидуита, интервиллузита, гнойного мембранита в группе женщин с ПР
относительно женщин со спонтанными срочными родами.
Однако исследования последних лет
показали, что инфекция может быть менее частой причиной ПР, чем предполагалось
ранее, особенно после 32 недель беременности. Вместо этого, многие случаи спонтанных
ПР, по-видимому, вызваны плацентарной недостаточностью [13].
Результаты нашего исследования продемонстрировали более высокую частоту
плацентарной недостаточности у пациенток с ПР (54 %) относительно женщин с
срочными родами (35 %).
По данным исследования Малышкиной А.И.
(2017), особенностью плацент при ПР до 32 недель гестации являются
гипоплазия в сочетании с пролиферативным виллузитом, с поствоспалительной
гиповаскуляризацией и нарушением дифференцировки сосудисто-стромального
компонента ворсин на фоне несформированных компенсаторных и адаптационных
реакций, после 32 недель беременности – хронические нарушения материнского
и плодового кровообращения с компенсаторной гиперплазией терминальных ворсин,
капилляров и синцитиокапиллярных мембран в них [15].
Предполагается, что новое понимание
основополагающих механизмов, регулирующих маточно-плацентарный кровоток и
влияния нарушений перфузии плаценты на здоровье плаценты, может привести к
улучшению диагностического тестирования на ранних сроках беременности и
революции в профилактической помощи для матери и ее ребенка [13].
Результаты микробиологического
исследования вагинального содержимого и соскоба плаценты представлены в таблице
2.
Таблица 2. Результаты микробиологического исследования
отделяемого из влагалища и соскоба плаценты
Table 2. Results of
microbiological examination of the vaginal discharge and scraping of the
placenta
|
Микроорганизм |
I группа |
II группа |
Влагалище I;II |
Плацента I;II |
||||
|
Влагалище |
Плацента |
Влагалище |
Плацента |
χ2 |
р |
χ2 |
р |
|
|
абс (%) |
абс (%) |
абс (%) |
абс (%) |
|||||
|
Staphylococcus haemolyticus |
11 (30,6) |
3 (6,1) |
1 (1,5) |
8 (8) |
21,543 |
<0,001 |
0,170 |
0,681 |
|
Corynebacterium spp. |
7 (19,4) |
1 (2) |
0 |
1 (1) |
15,565 |
< 0,001 |
0,269 |
0,604 |
|
Staphylococcus epididymis |
11 (30,6) |
2 (4,1) |
6 (8) |
10 (10) |
9,542 |
0,003 |
1,556 |
0,213 |
|
Streptococcus spp. |
1 (2,8) |
2 (4,1) |
0 |
0 |
2,102 |
0,148 |
4,137 |
0,042 |
|
Lactobacillus spp. |
5 (13,9) |
1 (2) |
16 (21) |
1 (1) |
0,879 |
0,349 |
0,269 |
0,604 |
|
Enterococcus faecium |
1 (2,8) |
0 |
0 |
0 |
2,102 |
0,148 |
0,0 |
1,0 |
|
Candida albicans |
8 (22,2) |
1 (2) |
9 (12) |
0 |
1,96 |
0,162 |
2,055 |
0,152 |
|
Staphylococcus warneri |
1 (2,8) |
0 |
0 |
0 |
2,102 |
0,148 |
0,0 |
1,0 |
|
Gardnerella vaginalis |
1 (2,8) |
0 |
2 (2,6) |
0 |
0,001 |
0,974 |
0,0 |
1,0 |
|
Klebsiella pneumonia |
2 (5,6) |
1 (2) |
0 |
0 |
4,243 |
0,04 |
2,055 |
0,152 |
|
E. coli |
4 (11,1) |
11 (22,4) |
1 (1,5) |
22 (22) |
5,406 |
0,021 |
0,004 |
0,951 |
|
Proteus mirabilis |
1 (2,8) |
0 |
0 |
0 |
2,102 |
0,148 |
0,0 |
1,0 |
|
Enterococcus faecalis |
5 (13,9) |
7 (14,3) |
2 (2,6) |
16 (16) |
5,185 |
0,023 |
0,074 |
0,786 |
|
Staphylococcus aureus |
0 |
1 (2) |
0 |
1 (1) |
0,0 |
1,0 |
0,269 |
0,604 |
|
Providencia |
0 |
1 (2) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
|
Citrobacter |
0 |
1 (2) |
2,0 (2,6) |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,055 |
0,152 |
|
Не выявлено |
1 (2,8) |
19 (38,8) |
37 (49) |
50 (50) |
23,417 |
< 0,001 |
1,666 |
0,197 |
Микрофлора из влагалища выделялась в I триместре беременности в 97,2 % случаев у
женщин I группы и в 51 % случаев во II группе (χ2 = 23,417; p < 0,001). B
посеве соскоба с поверхности плаценты микрофлора выделена у 61,2 % и 50 %
женщин I и II групп, соответственно
(χ2 = 1,666; p = 0,197). Среди
женщин с выделенной влагалищной микрофлорой только у 13,9 % обследованных I группы были обнаружены лактобактерии, однако
их уровень составил не более 104 КОЕ/г, во II группе – у 21 % с уровнем более 104 КОЕ/г
(χ2 = 0,879; p = 0,349). У
19,4 % женщин I группы в
составе влагалищной микрофлоры обнаружены типичные резиденты: коагулазооотрицательные
стафилококки, коринебактерии, количество которых не превышало 102-103 КОЕ/г.
При этом уровень лактобактерий был значительно снижен (до 102 КОЕ/г)
или отсутствовал. У 75 % пациенток I группы
в составе влагалищной микрофлоры обнаружены в высоких титрах условно-патогенные
микроорганизмы (УПМ): гемолитические стафилококки с уровнем 104-107 КОЕ/г,
энтерококки – 105-106 КОЕ/г, энтеробактерии – 107 КОЕ/г. Кроме того, в составе
влагалищной микрофлоры обнаруживались Candida albicans, средний
уровень которых составил 105 КОЕ/г. У женщин с дисбиозом
влагалищной микрофлоры в 74 % случаев в посеве с поверхности плаценты обнаружены
представители резидентной микрофлоры: коагулазоотрицательные стафилококки и
негемолитические стрептококки, средний уровень которых составил 103 КОЕ/г,
а также УПМ, среди которых преобладали E. сoli и энтерококки cо
средним количественным уровнем, достигавшим 105 КОЕ/г, гемолитические
стафилококки в количестве 102 КОЕ/г, а также высокий уровень (106 КОЕ/г)
Staphylococcus aureus, Providencia spp.,
Citrobacter spp.
У пациенток с ПР в ранние сроки
беременности статистически значимо чаще из влагалища выделялись такие
микроорганизмы, как Staphylococcus
haemolyticus – 30,6 % и
1,5 % (χ2 = 21,543; p<0,001),
Staphylococcus epidermidis – 30,6 % и
8 % (χ2 = 9,542; p = 0,003), Corynbacterim spp. – 19,4 % и
0 % (χ2 = 15,565; p < 0,001),
Enterococcus faecalis – 13,9 % и 2,6 % (χ2 =
5,185; p = 0,023), E. coli – 11,1 % и
1,5 % (χ2 = 5,406; p =
0,021). Не обнаружено статистически значимых различий между частотой выделения
различных микроорганизмов с поверхности плаценты у женщин с преждевременными и
срочными родами.
В настоящее время общепризнано, что
внутриутробное развитие плода человека происходит в стерильной среде, а
микробиота формируется в процессе родов и после рождения. Однако исследования
последних лет поставили под сомнение стерильность плаценты, но полученные
доказательства не являются неопровержимыми [16]. В то же время, установлено
важное влияние материнского микробиома на формирование микробиомов
новорожденного и микробиома плаценты [17].
Известно, что обсеменение последа чаще
возникает при наличии условно-патогенной микрофлоры влагалища в высокой
концентрации. В ранее опубликованных исследованиях не выявлена взаимосвязь
между микробиотой влагалища и плаценты – во влагалище преобладали представители
семейства Staphylococcaceae, а в последе – Enterobacteriaceae, отмечалось преимущественно
восходящее инфицирование при нарушении микробиоты влагалища [18].
ВЫВОДЫ
Таким образом, пациентки, родившие преждевременно, характеризовались более высокой частотой реализации восходящего инфицирования последа с преобладанием хориодецидуита и интервиллузита, а также более высокой частотой плацентарной недостаточности. У этих женщин в ранние сроки беременности регистрировалась более высокая частота нарушений биоценоза влагалища. Взаимосвязь между биоценозом влагалища в ранние сроки беременности, частотой инфицирования поверхности плаценты и реализацией инфицирования последа не установлена.
Информация о финансировании и конфликте интересов
Исследование не имело
спонсорской поддержки.
Авторы декларируют отсутствие
явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:
1. Premature
birth. Clinical recommendations (treatment protocol). M., 2013. 35 p. (Letter
of the Ministry of Health of the Russian Federation N 15-4/10/2-9480of December
17, 2013). Russian (Преждевременные роды. Клинические рекомендации (протокол лечения). М., 2013. 35 с. (Письмо Минздрава России № 15-4/10/2-9480 от 17.12.2013)
2. Dudenhausen
JW. Primary prevention of preterm birth. J Perinat Med. 2014; 42: 431-433
3. Been
JV, Nurmatov UB, Cox B, Nawrot TS,
van Schayck
CP, Sheikh A.
Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic
review and meta-analysis. Lancet. 2014; 383: 1549-1560
4. Diez-Izquierdo
A, Balaguer A, Lidon-Moyano C, Martín-Sánchez JC, Galán I, Fernández E, Martínez-Sánchez JM. Correlation between tobacco control policies, preterm births, and low birth
weight in Europe. Environ Res. 2018; 160: 547-553
5. Kyvernitakis I, Maul H, Bahlmann F. Controversies
about the Secondary Prevention of
Spontaneous Preterm Birth. Geburtsh Frauenheilk. 2018; 78: 585-59
6. Shor S,
Zimerman A,
Maymon R,
Kovo M,
Wolf M,
Wiener I
et al. Combined therapy with vaginal progesterone, Arabin cervical pessary and
cervical cerclage to prevent preterm delivery in high-risk women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019.
(2): 1-5
7. Sentilhes L, Sénat MV, Ancel PY et al. Prevention of spontaneous preterm
birth: Guidelines for clinical practice from the French College of
Gynaecologists and Obstetricians (CNGOF). Eur J
Obstet Gynecol Reprod Biol.
2017; 210: 217-224
8. Kindinger LM,
Bennett PR,
Lee YS,
Marchesi JR,
Smith A,
Cacciatore S
et al. The
interaction between vaginal microbiota, cervical length, and vaginal progesterone
treatment for preterm birth risk. Microbiome.
2017; 5(1): 6
9. Artymuk NV, Elizarova NN, Kolesnikova NB, Pavlovskaya DV, Chernyaeva
VI. Features of pregnancy, childbirth and the condition of newborns with premature
rupture of the membranes and premature pregnancy. Ginecologia. 2016; 18(1): 64-67. Russian (Артымук Н.В., Елизарова Н.Н., Колесникова Н.Б., Павловская Д.В.,
Черняева В.И. Особенности беременности, родов и состояния новорожденных при
преждевременном разрыве плодных оболочек и недоношенной беременности. Гинекология.
2016. Т. 18, № 1. С. 64-67)
10. Elizarova
NN, Artymuk NV, Turieva MV, Kolesnikova NB, Pavlovskaya DV, Grishkevich EV. Infection
peculiarities of placenta in women with premature rupture of membranes at 22+0-36+6
weeks depend on latency. Mother and Baby in Kuzbass. 2017; 2(69): 17-22. Russian (Елизарова Н.Н., Артымук Н.В., Туриёва М.В.,
Колесникова Н.Б., Павловская Д.В., Гришкевич Е.В. Инфекционные особенности
последа при преждевременном разрыве плодных оболочек в 22+0-36+6
недель в зависимости от продолжительности безводного периода //Мать и Дитя в Кузбассе. 2017. № 2(69). С. 17-22)
11. Kanninen
TT, Quist-Nelson J, Sisti G, Berghella V. Chlamydia trachomatis screening in preterm labor: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019; 240: 242-247
12. Artymuk NV, Belokrinitskaya TE. Clinical
Norms. Obstetrics and gynecology. M.: GEOTAR-Media, 2018. 352 p. Russian (Артымук
Н.В., Белокриницкая Т.Е. Клинические нормы. Акушерство и гинекология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 352 с.)
13. Aagaard
K, Ma J, Antony KM, Ganu R, Petrosino J, Versalovic J. The placenta harbors a
unique microbiome. Sci Transl Med.
2014; 6(237): 237ra65
14. Feist H,
von Kaisenberg C,
Hussein K.
Pathoanatomical and clinical aspects of the placenta in preterm birth. Pathologe.
2017; 38(4): 248-259
15. Malyshkina
AI, Nazarova AO, Kulida LV, Kozyrina AA, Zholobov YuN, Nazarov SB. Pathomorphology
of placenta in women with preterm births at different age of gestation. Obstetrics, gynecology and reproduction. 2017; 11(4): 23-29. Russian (Малышкина
А.И., Назарова А.О., Кулида Л.В., Козырина А.А., Жолобов Ю.Н., Назаров С.Б.
Патоморфологические особенности плацент у женщин с преждевременными родами в
зависимости от срока гестации //Акушерство, гинекология и репродукция. 2017; 11(4): 23-29)
16. Perez-Muñoz ME, Arrieta MC,
Ramer-Tait AE, Walter J. А critical assessment of the «sterile womb» and «in
utero colonization» hypotheses: implications for research on the pioneer infant
microbiome. Microbiome. 2017; 5(1): 48
17. Kamińska D, Gajecka M. Is
the role of human female reproductive tract microbiota underestimated? Benef Microbes. 2017; 8(3): 327-343
18. Marochko
TYu, Levanova LA, Artymuk DA. Microbiological and morphological parallels with
infection of the placenta. Materials of the
scientific-practical conference of the Trans-Baikal Territory «Proven and
controversial in obstetrics and gynecology». Chita, 2019. P. 39-41. Russian (Марочко Т.Ю., Леванова Л.А., Артымук
Д.А. Микробиологические и
морфологические параллели при инфицировании плаценты //Матер. науч.-практ. конф.
Забайкальского края «Доказанное и спорное в акушерстве и гинекологии». Чита,
2019. С. 39-41)
Статистика просмотров
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.